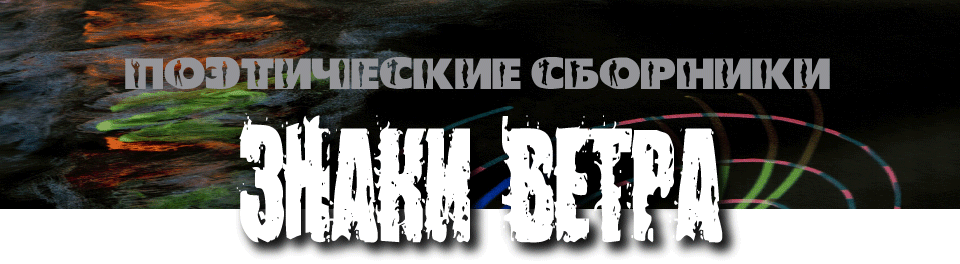Menu:
АЛЕКС ГЕЛЬМАН
БЕЛЫЙ — СО/ЗВУЧИЙ ЖЕСТ И МЫСЛИ РИТМ
мини-эссемоему другу-коллеге В.Тарасову
Я хочу говорить о Белом не как о “писателе”, а как о машине жеста, как о нервной системе прозы, где мысль не объясняется, а показывается телом речи: ударением, ускорением, повтором, паузой, хореографией артикуляции; у Белого звук не сопровождает смысл — звук и есть смысл, и потому ритм не служит метру, а становится самостоятельной силой, «ритм нам дан в пересечении со смыслом; он — жест этого смысла… в интонационном жесте смысла; а он и есть мелодия», и значит мышление здесь не понятие, а лад, не тезис, а тоника, не аргумент, а вибрация, удерживаемая повтором, потому что повтор у Белого — не бедность, а конструкция музыкальной формы, он прямо говорит о симфонии как о письме, где допустимо и нужно «повторение некоторых музыкальных фраз», чтобы мысль не исчезла в потоке фрагментов, чтобы она продолжала звучать как тема, как рефрен, как припев сознания. И мы слышим это буквально: «Усни. Ха, ха…» — насмешливый хохот мира, который становится не эпизодом, а мотивом, повторяемым как ритмическая клетка присутствия, потому что Белый мыслит не дискурсом, а оркестровкой, мыслит не логикой, а тембром, и когда читатель входит в эту оркестровку, он перестаёт быть внешним наблюдателем и становится частью акустической сцены, где слово работает как жест, жест как импульс, импульс как событие; и именно поэтому в “Котике Летаеве” речь не принадлежит субъекту, наоборот — субъект принадлежит речи, “я” не дирижёр, а инструмент. Он пишет: «жизнь звука во мне — не моя: принадлежит она миру звука;.. мной играть, как бы… клавишем», и тут уже видна главная онтология Белого — онтология со-звучий: мир не набор вещей, а ансамбль ударов, аккордов, переходов, и вещь существует не как предмет, а как аккорд, как вход в тайну: «Игрушки — аккорды;.. аккордами входим; в т а и м ы е к о м н а т ы смысла», то есть мысль не извлекается из вещи как значение, мысль “входит” в смысл как в комнату — по музыкальному ключу, по аккорду, по совпадению тембра, и тогда философия у Белого становится акустикой, а литература — способом познания через ритмический контакт. Но самая чистая формула этой машины дана в “Глоссолалии”, где Белый делает то, что почти никто не позволял себе: он объявляет артикуляцию онтологией, движение языка — не механикой произнесения, а хореографией смысла: «Всё движение языка… жест безрукой танцовщицы, завивающей воздух… как… пляшущий шарф», и в этот момент становится ясно: жестикуляция у Белого не метафора, а метод — тело речи думает вместо понятия, потому что звук несёт древний смысл как жест: «Звуки — древние жесты в тысячелетьях смысла». И это значит: мысль у Белого старше философии, она до-понятийна, она из эпохи, когда смысл не отделялся от движения, когда знак был действием; отсюда его радикальная фраза, сияющая как абсолютная декларация поэтики: «слова суть поступки», то есть слово не описывает мир — оно входит в мир как поступок, как жест, как сила, и в этом смысле Белый не пишет “о действительности”, он производит действительность ритмом; оттого и глосса у него не приложение и не примечание, а второй голос, оттого симфония у него не жанр-игра, а модель мышления, где лад удерживается, где тема возвращается, где повторение — это не круг, а удержание тоники, и где читатель слышит текст не как информацию, а как музыкальный организм. И мы снова приходим к жесту: Белый позднее отчётливо формулирует это в “Записках чудака”: «Жест — корень словесного дерева; когда вызреет жест — нарождается слово», то есть жест предшествует слову, жест — мать речи, и тогда созвучие — не эффект, а первичная сцепка мира, в которой мысль осуществляется как движение, как дрожь, как напряжение, как тонический удар; поэтому Белый — это не просто модернист, это мастер ритмического мышления, где смысл не “дается”, а создаётся в звучании, и где мы, читатели, вынуждены мыслить не глазами, а слухом: возвращаться, повторять, держать темп, держать паузу, выдерживать аккорд — пока не откроется “комната смысла”; и если современность, метамодерн, цифровой режим, лента и интерьеры интерфейса уничтожают цельность, то Белый не предлагает цельности — он предлагает оркестровку, не предлагает систему — предлагает тембр, и именно поэтому его жестикуляция со-звучий снова звучит как актуальная методология: мыслить можно не только концептами, можно мыслить ритмом, и можно мыслить жестом, и можно мыслить аккордом — и тогда прозе возвращается её древнее право: быть не сообщением, а событием речи, событием слуха, событием тела, и вся эта традиция ритмической прозы А.Белого становится не литературной школой, а формой мышления, где тоника не украшение — а нерв, не «музыка текста» — а устройство истины как дыхания, и потому Белый остаётся не просто читаемым: он остаётся звучащим.
2014,2017,2025